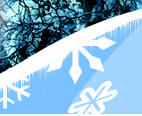Франсуа
Вийон
А. Д.
Михайлов
Поэтическим итогом развития средневековой французской
литературы и предвестием ее будущих достижений стало творчество Франсуа Вийона.
Вийон (Вильон, Виллон, 1431? - после 1463) и его поэзия
стали предметом огромного числа исследований. Между тем о его жизни сохранилось
мало сведений, дата рождения сомнительна, время смерти неведомо. Имя поэта -
Франсуа Монкорбье - редко упоминается в документах, и известно лишь то, о чем
он сам рассказал. В построении его поэм, будто всегда «автобиографических»,
проглядывает определенный «умысел»: поэт сам творил свою легенду. В
произведениях Вийона немало темных мест, однако попытки искать в его творчестве
некий эзотерический смысл заканчивается обычно неудачей.
Начало творчества Вийона совпадает с событиями, в
некотором роде обозначившими рубеж Возрождения, - с изобретением книгопечатания
и захватом турками Константинополя. Однако вряд ли поэт интересовался ими; для
него куда существеннее было окончание Столетней войны (1453). По своим
интересам он целиком принадлежал нищей парижской богеме и Франции. Вийон не был
в числе первых гуманистов; учась в Сорбонне, он не набрался премудрости, а по
своим знаниям в большей степени принадлежал Средним векам, чем Карл Орлеанский,
не говоря уже об Антуане де Ла Сале. Однако творчество Вийона - яркий знак
того, что близка заря Ренессанса.
Вийон с большим правом, чем Рютбеф, Жан де Мен, Машо
или Карл, может быть назван первым французским национальным поэтом, и поэтом великим,
ибо ему удалось с необычайной силой раскрыть через свое лирическое «я» всю
эпоху, посвятить читателя в жизнь своего времени. Но он и преодолевал эту
эпоху, выходил за ее рамки, подчас моделируя общечеловеческие, универсальные
переживания и ситуации.
Поэзия Вийона может показаться традиционной - он писал
баллады, рондо, песни, нанизывал каламбуры, играл синонимами и рифмами, и
внешне его творчество не выходит за рамки средневековой поэтики. Вийон
унаследовал ее мотивы и темы, ее приемы. Но он не копировал их слепо. То он
неожиданно и дерзко переводил в иронический план, скажем, традиционные для
средневековой лирики сетования на жестокость возлюбленной или славословия
сильным мира сего, то, напротив, заострял и существенно углублял опять-таки
традиционные споры «души с телом» или ламентации по поводу бренности всего
земного, вскрывая в этих темах настоящие трагизм и безысходность. Поэтому
поэзия Вийона по сравнению с его предшественниками стала подлинной поэтической
революцией.
В раннем творчестве Вийона, куда относится так
называемое «Лэ» (или «Малое завещание», 1456), а также несколько баллад,
созданных между 1455 и 1458 гг., такое новаторство уже намечается. Поэма «Лэ»,
из-за большого количества намеков на конкретных лиц теперь непонятная без комментария,
должно быть, восхищала современников неистощимым юмором, остротой иронии,
смелостью сатиры. Вийон заявляет здесь о себе как о поэте-горожанине: в его
шутливой поэме природы нет, есть только Париж (его жители, нравы, жизнь его
улицы). Картины города, мрачного, зимнего, пустынного, сделаны мастерски:
Глухою зимнею порой,
Когда в Париже все мертво,
Лишь ветра свист да волчий вой,
Когда все засветло домой
Ушли - в тепло, к огню спеша...
(Здесь и ниже перевод Ф. Мендельсона)
В «Лэ» уже возникают темы, характерные для последующих
произведений Вийона, - тема одиночества, измены друзей и любимой, тема
быстротечности земного; в поэме звучит то бесшабашное предраблезианское веселое
молодечество, которое помогало поэту преодолевать все невзгоды. Оттачиваются в
«Лэ» и вийоновское мастерство гротеска, и приемы сатирического осмеяния,
которые сознательно подхватил и развил автор «Гаргантюа и Пантагрюэля».
Главное произведение Вийона - «Завещание», которое
позже, но еще при жизни поэта, стали называть «Большим завещанием» (1461): оно
включает 186 строф-восьмистиший, 16 баллад, 3 рондо. К поэме примыкают
стихотворения, созданные в одно с нею время. В «Завещании» в полной мере
раскрылся талант Вийона, выражено его творческое и жизненное кредо. Позади было
тяжелое отрочество, пришедшееся на последнее десятилетие Столетней войны, затем
бурные университетские годы, наконец, полоса скитаний, преследований, ужасающей
нищеты, полоса унижений и падений, вплоть до злополучного участия в ограблении
Наваррского коллежа. Поэт познал измену возлюбленной, голод, изгнание, тюрьму,
стоял на ступеньке эшафота. Но в то же время на его глазах возникала могучая,
единая Франция, и в королевской власти бродяга-поэт видел не только
врага-угнетателя, но и опору.
Вийон называет поэму «Завещание», ведя крупную и
опасную игру слов: «Testament» может обозначать и завещание, и Завет. В
«Завещании» есть и предсмертные распоряжения - иронические, иногда горькие: где
и как его похоронить, как поступить с его воображаемым имуществом; есть и знакомые
по «Лэ» чисто издевательские «отказы» нищего богатеям, обличающие подлость
последних, но главное место в поэме занимает исповедь поэта.
Центральная проблема книги - это человек в окружающем
мире, в котором Вийону его страдания открыли больше истин, «чем все комментарии
Аверроэса к Аристотелю» (строфа XII). Личный опыт, чувства имеют для поэта
первостепенное значение. Лирический герой, авторское «я» оказываются в поэме не
только субъектом, но и объектом, а опыт - путем познания и искусства. Вийон переосмысливает
средневековое понимание страдания: оно не очищает, а учит, что, с его точки
зрения, и важнее. Регламентированной морали старого общества поэт
противопоставляет потребности, права личности. Мысль о единичном человеке,
индивидуальной судьбе проходит через все «Завещание». Но человек Вийона
находится в конфликте с обществом. И это не просто конфликт бедняка с богатым,
но в некотором роде конфликт отдельной личности и общества, ибо горькая жизнь
Вийона и окружающих его горемык подсказывала ему мысль, что человек одинок
среди людей (строфа XXIII):
Один, без крова, без родни, -
Не веришь? На меня взгляни!
Смотри, как всеми я покинут!
Вийон, конечно, писал о себе, но в изображении поэта
человек утрачивал связь со средой, веру в благоприятствующий ему богоданный
строй мироздания. Христианская предполагаемая гармония земной юдоли и
загробного существования у поэта тоже нарушалась. Человек Вийона не хочет
умерщвлять тело во имя спасения души. Жизнь - телесное бытие - вот
непосредственный предмет поэзии Вийона. Окружающий человека вещный мир является
для поэта безграничным арсеналом художественных средств. Вийон избегает
иносказаний и аллегорий. Бытовые детали играют огромную роль в его поэзии.
Через деталь, через часть изображается и познается целое; компоненты
человеческого бытия начинают жить своей жизнью, предвосхищая необузданное
вещное пиршество Рабле. Отсюда - перечисления предметов, например всяческой
снеди:
Пулярки, утки, каплуны,
Фазаны, рыба, яйца всмятку,
Вкрутую, пироги, блины,
Подливам, винам - нет цены...
Все эти описания соотнесены с человеком, с его
физическими нуждами: человек во плоти, его тело - герой «Завещания». Тело ест,
пьет, любит, корчится в предсмертных муках. Чаще всего это не гармонично
спокойное человеческое тело, каким его изображали современники Вийона -
художники итальянского Кваттроченто, это может быть и тело старое,
исковерканное, безобразное (даже выставляющее напоказ свое безобразие в
сравнении с былой красотой, как в «Жалобах прекрасной оружейницы»), оно
подвижно, изменчиво: судорожно дергается от любви или боли.
В поэзии Вийона пересмотр средневековых взглядов и
поэтических форм коснулся и сферы любви. В энергических строфах поэмы
(XLVIII-LX) Вийон обрушивается на женщин. Но он далек от средневекового
женоненавистничества и аскетизма, от мысли о врожденной «нечистоте» женщины. В
строфе L он пишет:
Ругают женщин повсеместно,
Однако в них ли корень зла?
Ведь каждая когда-то честной
И чистой девушкой была!
Любовь становится продажной и грязной, основанной на
лжи и корысти, потому что таково общество. Вийон мечтает о любви подлинной,
свободной и правдивой, однако не находит такой в жизни. Отсюда пессимистический
рефрен «Двойной баллады о любви» (входит в «Завещание)» - «Как счастлив тот,
кто не влюблен!» Куртуазное Средневековье, создавшее культ Дамы, далекий от
реальной жизни, воспевало возвышенную любовь; Вийон же подсмеивается над
поэтами, ее прославлявшими. Если в стихах Карла Орлеанского звучала прощальная
песнь старой, рыцарской культуре, то у Вийона встречается прямое глумление над
ней в стихах о плотской любви, в изображении которой он бывает вызывающе груб
(«Баллада о Толстухе Марго»).
В описании изнанки жизни Вийон необыкновенно
изобретателен. Порой он творит фантастическую реальность или реалистическую
фантастику, как, например, в «Балладе о том, как варить языки клеветников», где
каждый «рецепт» по-своему реален, но все они складываются в фантастический,
ужасающий гротеск:
В горячем соусе с приправой мышьяка,
В помоях сальных с падалью червивой,
В свинце кипящем, - чтоб наверняка! -
В кровях нечистых ведьмы похотливой,
С обмывками вонючих ног потливых,
В слюне ехидны, в смертоносных ядах,
В помете птиц, в гнилой воде из кадок,
В янтарной желчи бешеных волков,
Над серным пламенем клокочущего ада
Да сварят языки клеветников!
А рядом поэт может нежнейшим образом воспеть
прекрасное тело («...о женщин плоть - нежна, чиста, светла...») или создать
гимн величию и душевной красоте женщины, решительно раздвинуть ряд изнеженных красавиц
прошлого, чтобы поставить среди них простую крестьянку из Лоррени, Жанну д’Арк:
Скажите, где, в стране ль теней,
Дочь Рима, Флора, перл бесценный?
.............
Где Бланка, лилии белей,
Чей всех пленял напев сиренный?
................
Где Жанна, что познала пленной
Костер и смерть за славный грех?
Где все, Владычица вселенной?
Увы, где прошлогодний снег!
(Перевод В. Брюсова)
Вийон не только экспрессивный график: в созданных им
картинах поражают и причудливые очертания, и яркие краски, мало того, его мир
полон звуков, наполнен запахами. Для поэта важна и динамика этой полнокровной,
плотской жизни, и просто обычная людская круговерть, и неумолимое движение
жизни к своему концу.
Тема смерти возникает в «Завещании» многократно, это один
из лейтмотивов, особенно в прославленных строфах XXXIX-XLI, потрясающих
трагической конкретностью. За этими стихами следует «Баллада на
старофранцузском», в которой мысль поэта выражена энергично и недвусмысленно.
Кто смерти избежал своей?
Тать? Праведник? Купец? Монах?
Никто! Сколь хочешь жри и пей, -
Развеют ветры смертных прах!
(Перевод Ф. Мендельсона)
Вийон пишет о смерти с поразительной настойчивостью и
своеобразным трагическим вдохновением. Поэта не страшит загробное возмездие. Но
перед ним открылся весь ужас, вся безысходность и неизбежность небытия.
Конечно, в картинах смерти у Вийона содержится требование наслаждаться благами
бытия сейчас, ибо любая жизнь все же лучше смерти, и презрение к суетности
могущественных и богатых, ибо смерть уравняет всех, однако чувство необоримого
отчаяния оказывается сильнее обманчивого эпикуреизма.
Тема смерти вновь возникает в конце «Завещания» - в
строфах CXLVI-CLIII, в «Балладе добрых советов ведущим дурную жизнь» и в
строфах CLXII-CLXIV. Здесь энергично выражена глубина и трезвость мироощущения
поэта:
Я вижу черепов оскалы,
Скелетов груды... Боже мой,
Кто были вы? Писцы? Фискалы?
Торговцы с толстою мошной?
Корзинщики? Передо мной
Тела, истлевшие в могилах...
Где мэтр, а где школяр простой,
Я различить уже не в силах.
(Перевод Ф. Мендельсона)
Вийон делал отсюда смелый вывод: раз все люди равно
истлеют, то и в земной жизни каждый человек достоин равноправия.
В «Завещании» открыто поставлен вопрос о
несправедливости общественного устройства. Обращаясь к богу, Вийон требует:
«Над теми строгий суд верши, кого ты наделил харчами». Показательна
рассказанная Вийоном притча о пирате Диомеде (строфы XVII-XX), который, идя на
казнь, говорит Александру Македонскому, что стал грабителем потому, что он
беден и не распоряжается, как император, несметным войском. Выслушав это,
мудрый царь прощает Диомеда. Как и пират из притчи, Вийон видит в моральных
падениях не биологические, а социальные причины («С пути сбивает нас нужда»).
В «Завещании» детально развивается тема бедности. Хотя
Вийон пишет о себе («Я бедняком был от рожденья»), лирический герой поэмы -
всякий бедняк, всякий страждущий и гонимый, а гротескная галерея богатеев,
душителей «маленького школяра», несмотря на портретное сходство с
современниками Вийона, олицетворяет собой злое бездушие господствующих классов.
Вийон первым в мировой литературе с такой страстью
изобразил трагедию обездоленности, ужас одиночества. Он не идеализирует
бедность, напротив, в «Балладе - споре с Франком Гонтье» Вийон будто с завистью
перечисляет радости сытой, спокойной жизни.
Поэт апеллирует к властям предержащим, требует
справедливости, утверждая свою правоту напоминаниями о смерти (ведь в могилу не
потащишь свое богатство) и ссылками на Евангелие в духе уравнительных ересей.
В поэме раскрывается пропущенное через лирическое «я»
Вийона народное сознание эпохи со свойственными ему противоречиями, метаниями,
надеждами и приступами ощущения безысходности. Сомнения, внутренняя
разорванность сознания выражены в «Балладе состязания в Блуа». Написанная по
заказу и в силу этого несколько скованная по построению, она блещет точными,
афористичными строками, раскрывающими и внутренний мир поэта, и переживания
человека его эпохи: «Чужбина мне - страна моя родная», «Я сомневаюсь в явном,
верю чуду», «Отчаянье мне веру придает» и т. п. Столь же показательна и
«Баллада примет» с ее рефреном «Я знаю все, но только не себя». Рефрен этот
указывает и на противоречивость внутреннего мира человека, и на невозможность
судить о себе вне социального контекста. Поэт подчеркивает, что он человек
рядовой («не ангел, но и не злодей»), и исповедь его обыденна, и прегрешения
вполне обычны и страдания - это страдания тысяч людей. Тем страшнее, тем
достовернее, тем более волнующе все, рассказанное поэтом. При чтении
«Завещания» нельзя освободиться от ощущения присутствия исповедующегося, ибо
это не плавный рассказ, а взволнованная исповедь. Вийон прерывает повествование
обращениями к воображаемому собеседнику, спрашивает, сам же отвечает, спорит,
саркастически шутит, шлет яростные проклятия, от патетики переходит к
буффонаде, от шутовского цинизма - к крику отчаяния. В каждом стихе ощущается
биение жизни, сотрясающая поэта страсть («...а сердце рвется на куски»).
Самораскрытие личности в поэзии Вийона может быть сопоставлено с такими
удаленными во времени явлениями, как «Исповедь» Руссо.
Комизм в «Завещании» создается гротескным сталкиванием
несовместимого, игрой снижающих подробностей, выворачиванием наизнанку
привычных истин, смешным и страшным - в духе народно-площадного искусства -
хороводом дурацких рож, ироничными похвалами отъявленным лиходеям, частой
самоиронией. Многие приемы вийоновского комизма восходят к традициям народного
средневекового искусства. Эти приемы были развиты затем писателями французского
Возрождения, прежде всего Клеманом Маро и Рабле.
Вийон предвосхищает век Возрождения главным образом
тем, что предметом искусства становится у него индивидуальная человеческая
личность в ее земной, «мирской» жизни, до того подавленная официальной
феодально-религиозной идеологией. Раскрытию земной, в том числе телесной, жизни
подчинена совокупность изобразительных средств, богатых и отнюдь не лежащих на
поверхности. Поэт выступил новатором, прокладывавшим неведомые пути. Его смелый
отказ от аллегоризма был обусловлен тем, что идея, воплощенная в его стихах,
достаточно конкретна и однозначна. К тому же в своем творчестве Вийон не просто
передал настроения человека переходной эпохи, но на собственном примере показал
мучительные пути самопознания, печаль и радость критического мышления,
утратившего старые верования, но еще не подготовленного к созданию
ренессансного идеала.